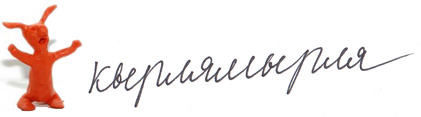Китайские секреты русской грамотности
Китайские секреты русской грамотности
История о том, как полезно иногда бывает «почудить»
В словаре Даля про каллиграфию всего-то два слова: «чистописание» да «краснописание». А в самой что ни на есть научной педагогической библиотеке им. Ушинского если и отыщешь в ящичке «Учебники до 1917 года» нужную карточку по каллиграфии, то уж непременно с пометкой «УН», что значит «уникальный экземпляр». А это, в свою очередь, значит, что либо его вообще нет, либо он общипан – утеряны приложения со шрифтами.
Поэтому для меня важно определиться с жанром. Мой коллега, описывая свой педагогический опыт, вывернулся ироничным словом «опусы». Мне тоже не хочется, чтобы мой труд выглядел импозант но. А то как отыщется любитель новых методик и давай детей мучить. Художники (только-только узнала, что им как раз преподают каллиграфию) – так те разозлятся. Скажут: «Ну и наглая же эта Ганькина! Где наклон, устав, такт?» Так что безопаснее всего просто рассказать, как дело было.
Каллиграфскую кашу заварил доктор педагогических наук Вячеслав Михайлович Букатов (тогда, в 1995 году, он кандидатом был и генератором всяческих идей). Он же и поручил мне написать о том, что из этого вышло. Ведь он как рассуждал: вдруг кто прочтет – и тоже захочет почудить?
Ну и мне охота и себя, и учеников своих показать.
Левой пяткой
Началось с выставки тетрадок по русскому языку. Вячеслав Михайлович об этом факте не знает. Дело давнее. Конец второго класса. Экспозиция лучших (наи чистейших) страниц называлась «Высунув язык», худших (наи грязнейших) – «Левой пяткой».
Несмотря на множество прививок и профилактических мер, мое тогдашнее состояние было паническим в отношении тетрадей. Все то, чем гордится традиционная школа (поля, 1 см слева, 2 см справа, ровненько, чистенько, и «травка зеленеет», и «солнышко блестит»), напрочь отсутствовало у нас. Я, конечно, понимала всю эфемерность тамошнего благополучия (оно было тюремным). Но экспозиция впечатляла и звала к борьбе. Бороться я не стала – был конец года.
На следующий вдруг выяснилось, что победитель конкурса «Левой пяткой» Катя (кстати, ее тогда наградили, и по крайней мере внешне она была довольна не меньше обладательницы лучшей страницы Ксюши) стала находить вкус в том, чтобы здраво располагать материал в поле страницы, аккуратно писать и не унавоживать тетрадь чернилами. Катя, которую умная мама лишила опеки еще в самое трагическое первоклашное время, потихоньку разобралась со своими делами, именно своими (не без слез, конечно) и сделалась ученицей гораздо раньше остальных.
Сейчас я знаю, что всему свое время. Если не нарушать естественный ход событий. А то оно может и вовсе не наступить. Те дети, которым учителя или родители задавали жесткие рамки поведения в тетради, еще долго не могли полюбить свои тетрадки. (Этот исполненный глубины абзац я написала давно. Сейчас я бы не решилась затевать разговор о рамках – он философский. Обмолвлюсь только, что в игре жесткие рамки не только уместны, а просто необходимы, тем более если они задаются самими участниками. Так что «есть такая партия»!)
Супрематизм на полу
В общем, я периодически была взволнована проблемой оформления тетрадей. И вдруг (это был четвертый класс) я услышала от Вячеслава Михайловича слово «каллиграфия». Как-то так все сошлось, что он подбросил нам детские книжки, в которых тексты были оформлены рукописными шрифтами, а у моего коллеги, Сергея Владимировича Плахотникова, еще в первом классе родители смастерили подставки для письма.
Ну вот. Берем подставку, деревянную ручку-макалку, бутылочку с чернилами (справа), промокашку, тряпицу (слева), к подставке резиночкой прикрепляем особую каллиграфическую тетрадь (четырехстрочную, вроде нотной) и начинаем красиво писать. «Красиво» — это как? А так, как в трех наших книжках: «Тереме-теремке» (худ. Л.?Проненко и М.?Сенькин; Краснодар, 1985) — с образцом славянского письма; «Шторме» А. Эппеля (худ. В. Дмитрук; М.,1976) – с витиевато написанной «Песней старых мореходов с допотопных пароходов» (а потому этот образец получил у нас название «XIX век»); и в «Мастере Маноле» В. Александри (худ. И. Богдеско; Кишинев, 1986) – с буквами, напоминающими готические, которые «в народе» стали называться просто «Маноле».
Итак, располагая тремя образчиками письма, мы стали их осваивать, толком не владея соб ственным почерком. Вот вам и вся каллиграфия. И больше ничего за душой не было — в смысле каких-то познаний. О наклоне, нажиме, уставе, темпе я узнала много позже. «Легкость в мыслях необыкновенная», правда ведь?
Вход в каллиграфию был таинст венный, с придыханием. Одно это слово – «каллиграфия», которое тут же было выведено («высунув язык») на титульном листе тетради, чего стоит.
За подставками ходили вниз, в класс к Сергею Владимировичу – «след в след», на цыпочках, чтобы не мешать третьеклашкам. А чернила были вовсе не чернила, а тушь! Черная тушь на красном паласе, которым был покрыт пол, – супрематизм!
Время от времени супрематическими становились портфели и стены. Если рожи были просто грязные, то язык окрашивался в черный цвет равномерно (то, как Леша и Катя решают проблему чернил, – сквозная тема многих сочинений).
На перемене коллеги деликатно подсказывали мне, где утереться («Золушка ты наша»). Причем этот макияж не отмывался даже мылом.
И все в школе знали, что у нас сегодня каллиграфия.
Аромат эпохи
Начали с «XIX века». Во первых строках появились загогулины, которыми изобилует «Песня старых мореходов».
Народ тут же признал в них родные «морячок качается» и
«с горки на горку» (см. росчерки для обучения письму, предложенные в книге Е.Е. Шулешко «Понимание грамотности», М., Мозаика-Синтез, 2001). С них мы начинали каждый урок. Это была разминка.
Потом мы стали учиться писать заглавные буквы, а поскольку в «Шторме» их было штук 6–7, то остальные пришлось выдумывать. Выдумывали на доске мелом, парочку лучших (а уж это на твой вкус!) втискивали в четырехстрочие тетради.
На каждую заглавную букву выдумывали «старинное» имя, в следующей строке – имя какого-нибудь литературного или исторического персонажа (с моей подачи).
Кто эти люди? Я пользовалась моментом внимания, чтобы рассказать, показать портреты и так далее. И неоднократно убеждалась в том, что эта информация, подсунутая как бы между прочим, цепко сидит в детской памяти. (В отличие от урока, который надо на следующий день от-ветить, а значит, от-делаться, от-дать.) Мои ребята, будучи теперь шестиклассниками, продолжают удивлять меня репликой: «Ну как же вы не помните, вы нам в первом классе рассказывали»(?!)
В каллиграфской тетрадке живут и Людвиг ван Бетховен, и Евгений Онегин, и Жанна д’Арк и Уильям Шекспир, и Ханс-Кристиан Андерсен, Ромео и Джульетта, граф де ля Фер, Гай Юлий Цезарь… Тщательно выводя «Натали Гончарова», мои ребята – я надеялась – ощутят «чистейшую прелесть» самой Н. Н. и, так сказать, аромат эпохи. Мне казалось, что каллиграфия плюс мои россказни «про это» выстраивают ту самую чувственную подложку под будущий курс истории, литературы. Собственными руками воссоздается кусочек эпохи. И вот за линией, завитушкой, буквой – уже речь, одежда, лица, страны, народы, события.
И, наконец, в следующей строке мы (я – на доске) писали целую фразу. Непременно изысканную: «Низкий Вам поклон», «Сделайте милость», «Премного благодарен», «Не откажите в любезности» и так далее.
На большой перемене во время завтрака потом можно было услыхать:
– Милостивый государь, не откажите в любезности. Если вас не затруднит, передайте, пожалуй ста, неподгорелый блин.
– Ха-ха-ха…
Я обнаглела и задала («Ура!!!») отксеренное домашнее задание по каллиграфии. Так вот, большинство на следующий же день сообщило мне со сладостнейшей улыбкой, что они – «уже». А урок каллиграфии – ровно через неделю.
Поначалу то ежедневное тягомотное время перед уроками, когда учителя нет или не все пришли и запросто можно начать слоняться, а то и вовсе распоясаться, проводили так: народ (попки кверху) обсуждал чью-нибудь каллиграфскую работу.
Единичка, навесик, пуфик
Строчные буквы мы писали поэлементно. Элементы – ровно те, что давались при обучении письму в нашем первом классе, с обязательными «пол-листиком» и «верхним/нижним соединениями». (Мне показалась счастливой мысль вернуть четвероклассников в ту «доисторическую» эпоху.) Но! С непременными росчерками, завитушками и пересечениями букв.
Тут же родилась идея писать незнакомый текст под диктовку по элементам. Быть «диктофоном» (он один видит текст) престижно. Лес рук. Тянули жребий. Однако в самом начале я вместе со всеми писала под диктовку. Писала на доске мелом, чтоб видно было, – подстраховывала. Потом это стало не нужно.
А вот как выглядит та самая диктовка, которая произвела на Вячеслава Михайловича впечатление. Он еще сказал: «Высший пилотаж».
По считалочке выбирается «диктофон». Ему выдается книга с нужным текстом. Он начинает писать, одновременно озвучивая все свои действия, начиная с «открываем бутылочку с тушью, берем ручку, обмакиваем в тушь». Один только «диктофон» знает текст, остальным же объявляется не слово, не слог, даже не буква(!), а всего лишь следующий элемент.
«Диктофон»:
– Заглавная «П» с пузырьком и большой шляпой (это легко) – «о»-элемент с петелькой – единичка – волна – пол-листика – «е»-элемент в нижнее соединение – хохотушка – гармошка – «с»-элемент – «е»-элемент – пробел – единичка – навесик – пуфик – «о»-элемент с петелькой – левая щечка – нос с усами – правая щечка – «е»-элемент… (Должно получиться Понеже кофе…)
Пока все элементы безошибочно не выпишешь – понять текст, который достался «диктофону», невозможно! Опять же бывало, что высказывалась благодарность «диктофону» за точную работу. Это когда в тетрадках наконец появлялся текст: элементы складывались в слова, слова – в предложения…
По мере возрастания мастер ства все большая свобода стала проявляться в написании букв. Каллиграфическая вязь перестала пугать, рука стала размашистей, линия смелей. «Маноле» и кириллицу они освоили сами, без меня, у доски. Вначале сводили на кальку, после переписывали текст в тетрадь. В некоторых тетрадях можно наблюдать по три-четыре попытки: выбиралась высота, густота и толщина букв. Отдельные попытки обильно политы добровольными слезами.
Лед тронулся
О неожиданностях. Начиналась наша каллиграфия как пропедевтические упражнения. Разок в неделю. Хотелось сделать акцент на некоей культуре писания и обхождения с тетрадью. И все. Сколько это продлится, никто не знал. Можно было повалять дурака и бросить. И тоже – «ничего страшного», как говорит Вячеслав Михайлович.
Но у нас дело приняло крутой оборот. Ажурное слово «каллиграфия» запорхало по нашей школе. Это было открытием для всех – что «я могу так писать» или «он может так писать». Вокруг тетрадей собирался народ. Восклицательный знак был высшей оценкой того места, где «получилось». Эти места смаковались и всем миром подвергались тщательному анализу.
Успешность в таком ни на что не похожем деле, как каллиграфия, была непредсказуема. Вдруг стали заметны некоторые люди, в сторону которых головы наших образцово-показательных дев раньше поворачивались только с материнским вздохом: «Ох уж этот Андрей!» Или: «Конечно, это Сашка, кто ж еще!»
Можно было заняться вышиванием гладью или выпиливанием лобзиком. Но мы занялись каллиграфией. И Пашка (имя ученика изменено), привыкший учиться из-под палки, сам себе удивился: чего, дескать, это ему работать вдруг приспичило?! Засуетился, и вид у него сделался деловой.
А я уж было Пашку оплакала. Он пришел к нам из класса «развивающего обучения». Все боялся что-то не успеть записать, глаза пустые. «Да что ты там строчишь, Паша! Ты лучше понять попытайся!» Скажи ему, что дважды два будет пять, — с жаром согласится. На вопросы не отвечал по причине потения и трясения рук. Какой уж тут вкус к учебе? Отсидеть бы 35 минут урока.
Реанимационный период затянулся на год. Я уже отчаялась: ничем не интересуется, книжки не читает, в малых группах не работает, не слышит, не видит, исподтишка поругивается, задирается. Ком непонимания по всем предметам растет и усугубляет отчуждение от дела, от ребят, от всей нашей общей жизни…
Наконец лед тронулся. И тут вдруг мама отправляет его в санаторий на всю четверть! Я совершаю ошибку, заявляя ей, что она губит собственного сына. Но Пашка при этом скорее не хочет ехать в санаторий, чем хочет. Это была победа. Ведь здесь «пахать» надо, а в санатории – «халява».
Его все же отправили. Известия доходили такие: получает там какие-то пятерки, пораньше вернуться не хочет, ему там якобы хорошо. А я, к стыду своему, надеялась, что ему там скучно будет… На новогодний спектакль к нам не пришел. Ну, думаю, «позарастали стежки-дорожки». Придется все начинать с нуля…
Но нет. Гляжу: оклемался недели через две. Появились глаза. Потом улыбка. Откуда? А попал с корабля на бал. Мы тут затеяли (с подачи В. Букатова) каллиграфический журнал. Пишем Козьму Пруткова. Вдруг Пашка:
– Дайте мне еще одну «афоризму» написать!
– Еще?!
Корифеи кинулись к Пашкиной парте – смотреть. Такие дела…
А Санёк в «распоясанный период» своей жизни (скорбные взгляды дев) вызвал народное восхищение тем, что начал писать по-каллиграфически в тетради по русскому языку, да еще фломастерами всех цветов. На этом он не остановился и постепенно охватил каллиграфией тетрадки по всем предметам, даже по математике!
Почти все так или иначе переболели этой заразой: кто диктанты писал с каллиграфическими наворотами, кто – письмо бабушке в Оренбург.
(Письмо Оли С. любезно предоставлено ее ошарашенным папой, срочно отксерено и только после этого благополучно отправлено бабушке. Кстати, Оля – новенькая и вживалась в нашу каллиграфию долго и трудно).
Личная переписка велась таким же манером. Как-то раз с пола я подобрала пустой самодельный почтовый конверт с довольно изысканной надписью.
«Каллиграфия» стала узнаваться повсюду: на вывесках магазинов, на этикетках товаров, на обложках книг, на стендах Дома-музея Васнецова, на надгробных плитах в Донском монастыре, на иконах, в тетрадках по физике: «Ой, смотрите, каллиграфия!!!»
А тишайший Саша П., новенький, – его в первый раз заметили как раз на каллиграфии! Разбирали неподписанные работы: где – чья.
– Это Сашки! Не видишь, как красиво?! (Это реплика Веры. А ее мнение в этом деле что-нибудь да значит.)
Автор и переписчик
Книжку тут нам подкинули любопытную – «Письмовник» профессора и кавалера Николая Курганова. Сборник анекдотов ХVIII века.
Уж как они старались, чтоб им было смешно! Увы. Зато после ХVIII века Козьма Прутков пошел на ура. Они смеялись даже на афоризм «Специалист подобен флюсу: полнота его одностороння»!
Тексты из «Письмовника» и Козьмы Пруткова писали для издания в классном журнале «Ижица» под диктовку разных «диктофонов». «Письмовник» транслировался на всех. А вот с Прутковым вышло иначе. Чтобы как можно больше «плодов раздумий» попало на страницы журнала, каждый получил свою «афоризму» и продиктовал ее соседу.
Только в этой работе приоритеты были расставлены правильно: прежде всего нажим и наклон (или отсутствие наклона – в кириллице). Многие понимали, что без нажима и наклона им в журнал не попасть, но ничего с собой поделать так и не смогли: выдержать стиль до конца оказалось нелегко. Их бескорыстный труд (только красоты ради) побудил меня издать почти все написанные экземпляры одних и тех же текстов.
В классном литературно-каллиграфическом журнале «Ижица» много разных историй, сочинявшихся в течение полугода и проживавшихся на уроках литературы, чтения, риторики и каллиграфии.
Автор у них – один, переписчик – другой. «Свяжитесь глазами с разведчиком (случайным партнером) и обменяйтесь тетрадками (с сочинениями)» – так автор и переписчик нашли друг друга.
Десять человек из пятнадцати не сломались и довели дело до конца. Переписчику надо было из четырех освоенных шрифтов выбрать один – подходящий к жанру сочинения. Ну, тут сыграли свою роль и личные пристрастия. Но, глядите-ка, русские народные сказки оказались переписаны кириллицей. Романтическая история про грустного принца-Червяка и его царство-яблоко – готическим «маноле». А вот бытовая история про червяка, который отправился погостить к соседу в Листовку, вернулся в свою Грушовку – а дом разорен, и червяк умер от отчаяния, – оказалась переписана мужественным шрифтом по прозванию «старичок».
Что под маской?
Именно за эти полгода мои ученики сделали большой скачок в грамотности. Им пришлось много переписывать. о как это переписывание отличается от переписывания в тетрадь упражнений по русскому языку! Каждое слово было в маске, и потому так хотелось под нее заглянуть. Поменялся угол зрения. Самое обычное слово, тысячу раз слышанное, вдруг становилось еще и видимым.
Именно в этот период на меня обрушилась лавина сладостных вопросов: «Мария Владимировна, а какой в этом слове корень? суффикс? а это что – приставка?» – и так далее. Включился механизм «ночного видения», всматривания, задержки зрения, при посредстве которого накапливаются наблюдения над языком, который потом, в свою очередь, включает интуицию.
У человека с так называемой врожденной грамотностью этот механизм видения (оппозиция «слух – зрение») таинственным образом включается в раннем детстве, как только он выучивается читать. Чем больше он читает, тем менее одиноким становится для него слово. Оно больше не болтается щепкой в безбрежном океане речи, а постепенно обзаводится родственниками и приятелями, вкусами и привычками. В голове маленького человека подсознательно складывается сложнейшая классификационная работа. Слово (словосочетание, предложение), отнесясь к какому-либо классу явлений и подчиняясь его законам, обзаводится определенным образом жизни, манерой поведения. И становится уже невозможным написать его иначе, чем увидел в тексте… Наивно?
Но я верю, что кому-то этот механизм видения еще не поздно включить.
На завалинке
Завалинка (а попросту стул на сцене, то бишь у доски) – это такое место, куда выходишь, чтобы прочесть свое сочинение. Попросту стул на сцене. Это место мне кажется замечательным. Все истории из наших классных литературно-каллиграфических журналов прочитывались на завалинке. Это были уроки чтения, русского языка, стилистики, литературного мастерства и чистописания одновременно. И тот самый механизм видения включался еще как! А Андрей и Оля именно на завалинке и выучились по-хорошему читать.
Завалинка – потому что сказки (с них-то все и началось) бабушки и дедушки рассказывают своим внукам (или студентам-фольклористам) непременно на завалинке. А еще потому, что на завалинке можно завалиться – запутаться в собственном почерке или предложении.
Человек выходит читать свой черновик. Без домашней тренировки не выдержишь образ рассказчика, а то и вовсе завалишься, ведь текст-то письменный! Вот так пару раз оплошаешь: не разберешь собственные каракули, не восстановишь ход собственной мысли – станет стыдно, и волей-неволей станешь выстраивать предложения и писать аккуратней.
Слушатели же всегда чем-то озадачены: или ищут законы сказки, которые сами же и вывели, или считают запятые (предложения, абзацы), или ищут, за что похвалить, но главное – думают, как сделать историю интересней. Поначалу речь шла, конечно, не о языковых средствах, а о каких-то сюжетных ходах. Ты мог оставить все, как есть, или воспользоваться советом. Когда на завалинку приносили второй, доработанный, вариант (хотя, казалось бы, никто ж не заставляет и отметок нет!), я ловила свой педагогический кайф. Такой внимательной, настоящей (ни шебуршания!) тишины я еще не слышала.
А чтение иногда длилось часами – не хотели расходиться, пока все всё не прочтут.
Наверняка вас что-то насторожило в моем рассказе про завалинку. Ведь лобное место всегда чревато. Но мы сделали мощный прорыв в чтение, язык, синтаксис. Вообще любопытные штуки случались с человеком на этой самой завалинке. Нескольких человек она точно вывезла на себе.
Сейчас мои ребята жаждут ее как никогда. Я не пускаю, всячески увиливаю. Боюсь. Заклюют друг дружку. Специфика возраста…
Древние рукописи
Дальше были летние каникулы. Я не знала, продолжать мне каллиграфию в пятом классе или нет, но по инерции продолжила. В конце сентября, думаю, пора прикрывать лавочку – «белых пятен» больше нет. И тут на глаза сначала попался учебник по палеографии, потом книжица под названием «Древнерусское декоративно-прикладное оформительское искусство» – и я поняла: каллиграфия только начинается!
Было отксерено все, что только можно: потрясающее юбилейное издание «Песни о вещем Олеге», странички древних рукописей с заставками, инициалами, орнаментами, миниатюрами, а главное – славянские шрифты на любой вкус. Было решено готовить выставку имитаций «чудом уцелевших» страниц древних рукописей.
Тут уж было все по науке. Каждый чувствовал себя зубром, когда имел дело с инициалом. Каждый выбрал себе работу по вкусу: текст по вкусу, шрифт по вкусу, заставку, орнамент. Инициалы сочинялись на ИЗО и – чудесные. Но на миниатюру решились немногие.
Вторая четверть – сплошной карантин по гриппу. Страницы оформлялись по большей части дома. Вести с фронтов: у кого-то сестренка пролила воду на почти готовую работу, у кого-то расплылись чернила…
Выставка пришлась как раз на время новогодних праздников. В традиции нашей школы выносить на праздник итоги той или иной работы в предмете – в чтении, риторике, театралке, литературе, музыке, рисовании, рукоделии.
На этот раз в канву новогоднего представления была вплетена наша «Выставка имитаций древних рукописей». В антрактах спектакля по ней водили экс курсии. Выставка размещалась на стенке вдоль лестницы с первого этажа на второй. Здесь можно было увидеть не только странички из древней Псалтири, «Домостроя», Евангелия или сборника русских пословиц, но и письмо Татьяны к Онегину, Пушкина к жене или Пеппи Длинныйчулок к отцу, африканскому королю Эфроиму Первому. Все «древние рукописи» были оформлены по всем правилам: в цвете, с витиеватыми заставками, инициалами и орнаментами, с зашифрованными датами и подписями.
Экскурсоводами работали, разумеется, сами юные «несторы». Текст экскурсии они сочиняли на уроках русского языка. Сочиняли, редактировали, уточняли, выверяли, по десять раз переписывали – чтоб было грамотно во всех отношениях…
взято отсюда
лучше смотреть в оригинале, там еще картинки.
Прислала АА