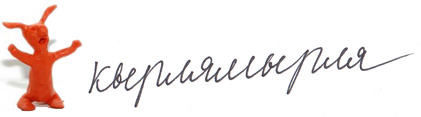Любимый Олег Григорьев
Про Олега Григорьева
«БУКЕТ
Продавец маков
Продавал раков.
Тут подошел
Любитель маков
И возмутился,
Увидев раков:
— Вы, кажется,
Продавали маки,
А у вас тут
Сплошные раки.
— Ну и что же? —
Сказал продавец. —
Не все ли равно,
Наконец!
Вареный рак
Красен, как мак,
По-моему, так,
А по-вашему как?
— Да, это так, —
Сказал любитель маков. —
Хоть я и не любитель раков,
Но коль сегодня маков нет,
То дайте раков мне букет.»
Олег Григорьев
«Чудаки», 1971 г.
30 апреля в Питере умер поэт Олег Григорьев. Он был нашим другом.
В ночь перед самым вылетом в эмиграцию он
ворвался к нам с криком: «Вика! Мишка, гад! Что же вы делаете?!
Вы же больше никогда меня не увидите!»…
Теперь я понимаю, что это значит…Это повторяется каждый
раз — и все чаще — это чувство жгучей вины перед ушедшим… Живем, — как будто не знаем, не ведаем, что смертны… Может быть, есть только один способ заглушить в себе
это нестерпимое чувство вины, — это вспоминать…
…Я помню: солнце так залило убожество нашего «щемиловского» жилья, что пыль надо было вытереть немедленно. Схватила тряпку, кинулась к столу, заваленному рисунками мужа, обрезками паспарту,
скомканными бумажками: рисунки — в сторону, бумажки — в корзину, — и вдруг увидела — на скомканном клочке что-то написано. Распрямила, прочла: «Миша, друг, пришли мне все это, а тебя посадят, я тебе пришлю».
Тогда наша молодость уже истекала. Но в свое время
мы так обалдели от возможности забыть все, что нам
вдалбливали в детстве — забыть и наплевать, а в освободившееся пространство голов с быстротой, которая дается только младенчеству, впитывать новое, незнаемое, прекрасное — так обалдели от радости узнавания, что детскость и взрослость перемешались в нас, образовав что-то вроде нескончаемой юности, полной надежд и иллюзий,
расставаться с которыми было трудно.
В нашей реальной юности даже Врубель был скрыт в запасниках Русского музея — и вдруг распахнулись в Эрмитаже залы импрессионистов, вдруг — выставка Пикассо, вдруг явились нам Кандинский, Малевич, Гончарова, Ларионов… вдруг вошла в нашу жизнь поэзия, прекрасная в своей подлинности, тревожащая душу многообразием…
И мы в гостях у старого, чудом не пропавшего в страшные годы художника Альтмана, с детским восторгом перед обрушившейся на нас радостью узнавания, восклицаем:
— Натан Исаевич! Какие времена настали замечательные! Правда?!
Опершись на трость, полный какого-то печального достоинства, старик смотрит не то мимо нас, не то сквозь нас, и, отклячив нижнюю губу, медленно картавит:
— Дорогие, боюсь, вы увидите еще очень тяжелые времена…
Олег Григорьев к моему поколению не принадлежал. Он
был моложе нас. Он вошел в уже раскрывшийся мир, он
дышал воздухом обнаружившейся нам, как чудо, культуры, естественней и глубже, под его мальчишеской внешностью и повадкой рано вызрел взрослый, трезвый, печально-иронический талант.
Вечером я спрашиваю мужа:
— С кем ты связался? Как к это: «… а тебя посадят — я тебе пришлю»? — Это от Олега Григорьева… Ты же знаешь его книжку «Чудаки»…
Книгу я, конечно, знала, а тут узнала, и как он выглядит, и какой у него голос, и как читает свои стихи — и сразу полюбила его, только никак не могла понять, за что же он сидит. Какая-то запутанная история: потерял паспорт, кого-то поймали, нашли у него паспорт Олега, а он нигде не работал, тут как раз вышла в»Детгизе» книжка — такая замечательная книжка, — кто-то присоветовал: чего же прятаться? Надо пойти и взять свой паспорт. Он пошел — и взяли его…
Эту книгу «стихов для детей» — беру в кавычки, ибо их
сразу как-то азартно-восторженно полюбили взрослые —
но для детей книгу открывала написанная в слащаво-
доверительном тоне аннотация, сообщавшая детям в назидание, что автор «совсем еще молодой человек, но он уже успел поработать
и прессовщиком, и почтальоном…»
Однако в те годы сокрытие и умолчание становилось привычной формой лжи — даже в маленькой аннотации было
трудно без нее обойтись, и автор скрыла от детей, что Олег
собирался стать художником, учился в художественной школе — он и был художником, участвовал в одной из первых
выставок ленинградских авангардистов, смотрел на мир глазами художника. И видел:
«… вместо человеческих фигур, которые строят дом, фигурические челогуры, которые доят стром. Вместо рабочих в комбинезонах, идущих домой, какие-то Рамбинзоны в заботине, грядущие за мной».
В журнале «Детская литература» появилась хвалебная ре-
цензия. Вместе с продуктами, красками, кистями и портретами русских классиков Миша послал ее Олегу в лагерь — то, что он был художником, тюремщики одни и оценили: вынули его из ямы, которую копали заключенные, и пересадили в «Красный уголок» —
но ревматизм он в этой яме уже успел нажить,
А хвалебные рецензии больше не появлялись.
И из тюрьмы его никто не вызволял.
Только лучший друг Глеб Горбовский, вдруг вылечившийся
от пьянства и сразу ставший каким-то деятелем в Союзе
писателей, покачивая красивым чубом, сокрушенно бормотал: «Это я научил Олежку пить… он ко мне мальчишкой пришел… я ему стакан полный как засадил… так и пошло…»
***
— Яму копал?
— Копал.
— В яму упал?
— Упал.
— В яме сидишь?
— Сижу.
— Лестницу ждешь?
— Жду.
— Яма сыра?
— Сыра.
— Как голова?
— Цела.
— Значит живой?
— Живой.
— Ну, я пошел домой!
Эти стихи Олег написал до того, как его посадили — они
есть в книге «Чудаки». Как будто знал, что его ждет.
Перед концом срока его отпустили на побывку домой.
Он пришел к нам, и я увидела его впервые. Мальчишеского
роста, всей стати мальчишеской, тонкочертный, с детской
припухлостью губ,светлоглазый, распахнутый навстречу
всем ветрам и ощутимо — всем несчастьям, — он принес
с собой две толстые тетради, от корки до корки аккуратно
исписанные стихами. Он сочинял в камере, в бараке, в яме,
в «Красном уголке». Читал негромко, очень просто, как
будто старался, чтобы до тебя дошел в каждую строчку
вложенный смысл. Как будто говорил с детьми. Меж тем, к
детям он обращался как к взрослым. Его хотелось
укрыть и спасти, но он абсолютно точно знал, что ни
укрыться, ни спастись нельзя, ибо несчастье — сама жизнь,
вокруг него происходящая.
Миша уговаривал его остаться у нас, но он буквально вырвался
и той же ночью потерял обе тетради.
Кое-что потом восстановил по памяти, но сочинял неостановимо,
всегда, и потерю — потерей не считал. А никто и не собирался его печатать, времена изменились, редакторы держали нос по ветру,
а ветер доносил:
«Ни-ни! И не вздумайте!»
И только в восьмидесятом году вышла вторая его книга
в Москве. Она вышла без всякой аннотации, а жаль: тут бы
и сообщить деткам, что так и не принятого в Союз писателей автора милиция все эти годы обкладывала, как гончие — зайца, бдительно следя, чтобы он работал, трудился, не жил тунеядцем.
И он работал, то сторожем, то на фабрике, то
каблучником, то прессовщиком. И очень надеялся, что
когда выйдет новая книга — он назвал ее «Витамин роста»,
— ему дадут в Союзе писателей справку для милиции, в которой будет написано, что он не тунеядец, а писатель. Но:
«Человек шел спиною назад,
Ногами назад и затылком назад.
А может он шел вперед?
Вперед, только наоборот»
Разразился скандал: книга вызвала приступ бешенства у
генерала от детской литературы Михалкова. Говорили, в
бешенство его привели вот эти стихи:
«- Ну как тебе на ветке? —
Спросила птица в клетке.
— На ветке, как и в клетке.
Только прутья редки.»
Надежда на то, что «умный не скажет, дурак не поймет»,
теперь выглядела по-детски наивной: умные давно уже сотрудничали
с дураками и объясняли им, что к чему. И Михалков объяснил кому надо, что стихотворение «Былина»
— «это» настоящее издевательство над русским былинным творчеством, надругательство над русским народом:
«Сидит Славочка на заборике,
А под ним на скамеечке Боренька.
Боренька взял тетрадочку,
Написал: «Дурачок ты, Славочка».
Вынул Славочка карандашище,
Написал в тетрадь: «Ты дурачище».
Борище взял тетрадищу
Да как треснет по лбищу Славищу.
Славища взял скамеищу
Да как треснет Борищу в шеищу.
Плачет Славочка под забориком.
Под скамеечкой плачет Боренька.»
Двух редакторов московского Детгиза выгнали с работы
— Олег особенно болезненно это переживал, — ему же «перекрыли кислород». В те времена это было излюбленное
выражение московских деятелей от литературы. Особенно
изящно оно звучало в устах детских писателей, но что хуже — имело реальный смысл.
Мне кажется, в тот день, когда Олег, еще не зная, что
скандал уже разразился, уезжал в Москву, чтобы получить только что вышедшую книгу, и по дороге на вокзал зашел к нам, я последний раз
видела его трезвым. Это был особенный Олег — казалось,
собственные его неудачи отпали, о них можно больше не ду-
мать, и весь он готов сосредоточиться на том, что происходит в твоем доме, в твоей душе. Он был в тот вечер красив, как много лет назад, был так добр и терпелив к нашим детям — они не сходили с его
рук, — а потом читал нам свои «взрослые» стихи. Одно мне
понравилось особенно:
«Сидел я в камере-одиночке,
А какая-то девушка
сидела выше.
Говорит: — Похлопай себя
по животу ладошкой,
Так, чтобы я тебя
слышала —
Она мне спустила
на нитке
Локон своих волос,
А я был острижен наголо,
Зато щетиной оброс.
Я вылепил ей из хлеба
Человечка мужского.
А она к нему прилепила
Человечка другого.
К его голове я приклеил
Локон ее волос.
Потом нас по разным точкам
Тесный «Столыпин» развез.
А человечков с полки
Ночью украла крыса.
Один человечек в локонах,
Другой человечек лысый.»
Уже после возвращения из
Москвы он принес листок папиросной бумаги, на котором
было бледно отпечатано это стихотворение,
а поверх названия — «тюремное» — размашисто: «Посвящаю Вике
Беломлинской с любовью», подпись и дата: 4/2.82.
Я смотрю сейчас на этот листок, и почему-то мне кажется,
что в России даты так не писали… Как-то иначе…
А сроки жизни поэтов там всегда
были короткими…